Выпускник ГИТИСа Михаил Швыдкой: Культура онлайн вносит невероятную социальную несправедливость
16 Октября 2020 О ГИТИСЕ


Всю коронавирусную весну и всё лето выпускник театроведческого факультета ГИТИСа, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Ефимович Швыдкой не уходил с боевого поста. Точнее, с трёх. Он продолжал преподавать в МГУ и ГИТИСе, хотя для этого и пришлось «переехать» в онлайн-формат, продолжал выполнять обязанности посла по особым поручениям в МИДе и продолжал руководить Театром мюзикла. О том, как выживает искусство в эпоху пандемии и о преемственности поколений в театре Михаил Ефимович рассказал «Собеседнику».
– Михаил Ефимович, как вы переживаете коронавирус?
– Вы знаете, моя жизнь и весной, и летом отличалась от жизни, наверное, многих людей, поскольку я служу все-таки в Министерстве иностранных дел, и поэтому я ходил на работу. Ну, разве что четыре раза в неделю вместо пяти. Зато я кое-что почитал и перечитал, кое-что посмотрел, чего не видел раньше, я приготовил новый курс лекций для театрального института. Но что самое ужасное – времени все равно не хватало! Кажется, что это было время, когда можно расслабиться, но нет – единственное, что вместо 4 часов или 5, которые я обычно сплю, я спал целых семь. Вот это было роскошно. В остальном – напряженно. Меня очень волновала жизнь театра – не только моего, но и в целом институции. Хотя мы очень отличаемся от всех остальных: Театр мюзикла – самый большой частный театр не только в России, но и в Восточной и Центральной Европе. Такого масштаба негосударственных театров даже в Германии нет. Они там играют один проект, потом другой, и там могут быть и 100, и 150 человек заняты, а у нас постоянно работают около 300 человек.
– То есть Театр мюзикла частный, но при этом репертуарный?
– У нас вообще всё не по правилам. Потому что мы в самом начале поступили, как абсолютно русские люди – мы захотели сделать репертуарный театр, а репертуарный театр мюзикла – это нонсенс. А репертуарный частный театр мюзикла – это нонсенс в квадрате и вообще идиотизм. С точки зрения экономики мы абсолютно неправильно работаем. Но зато мы за эти десять лет смогли создать ту атмосферу, которая позволяет делать спектакли, которые никогда бы не случились, если бы мы жили от проекта к проекту. Так что да – мы играем спектакли блоками, но мы репертуарный театр с тремя сотнями артистов. И мне на карантине нужно было кормить всю эту армию. «Мне» – потому что больше, как бы и некому.
– А ваши меценаты обеднели в связи с локдауном?
– Видите ли, наши партнёры – это очень крупные компании. Но никто из меценатов просто так деньги не даёт. Для того чтобы их убедить в том, что нужно дать денег нашему театру, следует доказать, что мы стоим в определенном ряду, наравне с Мариинкой, Театром Наций, с Малым, с Третьяковкой и Пушкинским.
(К слову, ближе к финалу разговора Михаила Ефимовича попросили присоединиться к поющим артистам театра и поздравить кого-то из спонсоров. «У нас тут своя кухня, понимаете, – кто-то поздравляет партию и правительство, а мы спонсоров!» – весело сказал он.)
– Вы, открыв сезон, не боитесь второй волны коронавируса?
– История про вторую волну пандемии – это такая сказка про белого бычка, потому что это не вторая волна, это теперь как море с приливами и отливами. Море волнуется раз, море волнуется два. И люди действительно боятся ходить в театр. Я звоню своим молодым друзьям, говорю: «Приходите», а они мне: «Ну, мы подождем. Сначала уколемся и привьемся».
– А вы еще не сделали прививку нашей новой вакциной? Многие люди вашего статуса уже поставили.
– Нет пока. Но я хочу сделать прививку от пневмококка. И от гриппа, может быть. Хотя мы отслеживаем всё, не пускаем на работу при температуре уже 36,95, не говоря уже про сопли и кашель. Но главное, что мы взяли кредиты (рассчитываться теперь будем года два с половиной!) и эти полгода смогли содержать театр. А у нас же молодежь, они брали ипотеки – и мы поддерживали всех на уровне репетиционных денег. Это не бог весть какие деньги, но это позволяло людям жить. Понятно, что все театры стонут, у всех огромные выпадающие доходы. Эрмитаж, например, терял каждый месяц по 200 млн рублей. А Большой театр – и того больше, по-моему, они в день теряли по 9 млн. Психологически все было очень тяжело, особенно в марте и апреле.
– Михаил Ефимович, недавно вы высказывались о театральных страстях последнего времени. Карантин обнажил довольно унылую картину театральных нравов и интриг. Мы раньше просто не замечали, что всё так некрасиво?
– Я не могу сказать, что всё прямо совсем некрасиво. Знаете, театральные люди – очень хрупкие. Это люди, у которых всё обострено. Но я не придерживаюсь точки зрения Фаины Георгиевны Раневской, сказавшей, что актёры – это «сукины дети». Нет. Просто артисты очень нервно всё воспринимают. И поэтому, когда они не играют спектакли, начинается очень много всяких разъедающих рефлексий. А тем более, когда происходит смена руководителя театра. Тут вообще до трагедий порой доходит. И произошедшее с Мишей (Ефремовым. – Ред.) – тоже трагедия. Я очень огорчен, как и все, всей этой историей. Потому что в русской традиции есть сострадание, понимание и прощение – при всём идиотизме линии защиты Миши. Бог им судья, как говорится. Но в России – возьмите Достоевского – к людям, вольно или невольно преступившим закон, всегда относились с состраданием. А не с улюлюканьем, как в ситуации с Мишей Ефремовым. Но это улюлюканье и травля – это не отмашка сверху. Я уверен. В такие периоды, типа пандемии, подобные случаи очень «ценны» для многих СМИ. Потому что отвлекают аудиторию от чего-то более важного. Мишин случай – он ведь из разряда «жареного». Артист, известный, пьяный, наркотики, то-сё, пятое-десятое. Я думаю, что такое разыгрывали бы везде. И у меня вот эта раскрутка вызвала много грусти. И не потому, что я хорошо знал маму Миши и папу, и бабушку, и дедушек. Я и Мишу знаю, конечно. Но Миша – другое поколение и совсем другая история. И Алла Борисовна, его мама, не случайно говорила, что в его жизни может быть очень драматический конец. И, видит Бог, всё это никому понравиться не может.
– Михаил Ефимович, а вы, при ваших связях на самом верху, не пробовали вступаться за Ефремова?
– Знаете, я считаю, что тут такого рода механизмы нехороши. И так всё всем понятно. И была бы другая линия защиты, все было бы по-другому. Каким образом этот человек попал в адвокаты Ефремова, я понятия не имею. Для меня это все загадочно. Первое заявление Миши, ещё в самом начале, когда он говорил о своей вине, – это был единственный правильный путь. Но Бог его выведет, и Миша сильный парень. Может быть, эта трагедия, которая его невероятно встряхнула, как ни странно, вернет его к нормальной жизни. Я надеюсь на это, во всяком случае. И надеюсь, что приговор будет смягчен. Мишино дело стало слишком публичной историей. Её так раскрутили, что приглушить её уже было невозможно. Хотя мне говорили, что вот в такой же ситуации тот и этот «отмазались». Но при такой публичности приходится дистанцироваться. Повторю, будем надеяться на лучшее.
– Ну а ситуация в Ленкоме? Почему департамент культуры Москвы ничего не делает, когда театр, как мир художественный, явно гибнет? Марк Борисович Варшавер прекрасный директор, но он абсолютно не худрук.
– Тут все очень непросто и не дважды два. Не потому, что я к Марку отношусь хорошо или плохо – а он действительно очень опытный директор, который провел в театре 40 лет и знает все до винтика. Дело в том, что театр не завод, не медицинское учреждение и не университет. Когда-то Товстоногова спросили: «А почему вы не воспитываете молодых режиссёров, которые могли бы вас сменить?» И он ответил: «Ну что же вы хотите, чтобы я воспитывал любовника для своей жены?»
Театр устроен не как демократия, а как монархия. Григорович, например, как-то сказал, что управление театром – это тирания. И в театре вообще всё происходит, как при фараонах. Умер фараон – хоронят всех приближенных. Приходит другой фараон – и начинается другая жизнь.
Это может нравиться или не нравиться, но не будет уже театра Табакова. Так же, как когда-то кончился театр Олега Ефремова – а ведь ему на смену пришёл Олег Табаков, и они были однокоренные по эстетике личности. И тем не менее Олег Николаевич делал совсем другой театр. И это тоже вызывало у кого-то некое внутреннее раздражение. Теперь в МХТ пришёл Женовач, и он делает свой театр, и к этому надо относиться с пониманием. Другое дело, что МХТ не просто театр, как все остальные. Это методология. Это метод Станиславского – то, чем Россия вошла в мировую культуру. И когда человек приходит руководить в этот театр, он как бы должен символизировать систему и методологию. Ну а в Ленкоме совершенно другая история. Ушёл Марк Анатольевич – а Марк был моим старшим товарищем и очень близким человеком, которого я очень любил, насколько это вообще в жизни возможно. И вот я сейчас скажу страшную вещь: сохранить театр Захарова – это практически невозможно. Когда уходит мастер, надо ждать прихода другого мастера. Я не думаю, что Марк Варшавер захватил или не захватил власть. Просто сейчас найти в Ленком яркого режиссера очень сложно. А равновеликого Захарову вообще не найдем. Режиссёров, к сожалению, сегодня меньше, чем театров. Да и директоров хороших немного. Поэтому вот сказать, что Марк Борисович плох, давайте назначим кого-то получше, – неправильно. Нужно искать адекватного этому месту режиссёра. Скажу вещь, за которую на меня все обидятся. Марк Анатольевич руководил театром 46 лет. Он создал стиль того Ленкома, о котором мы сейчас все говорим. Но все-таки давайте вспомним, у истоков этого театра был Иван Берсенев и была Софья Гиацинтова – не самые последние артисты. Потом был Эфрос какое-то время. Анатолий Васильевич работал там всего четыре года, и он сделал из Ленкома один из самых ярких театров страны. То же самое, когда мы говорим о БДТ – он носит имя Товстоногова, и тут всё понятно, но у истоков этого театра тоже не последние люди стояли – Блок, между прочим, и Горький. С Ленкомом очень деликатный вопрос, и я тут не хочу переходить на личности, потому что это бессмысленно. Но во всей этой истории мне очень важно, чтобы Саша Захарова чувствовала себя комфортно в театре. Вот и всё.
– Хорошо. Не так давно вы говорили на форуме в Ульяновске о необходимости цифровой трансформации культуры. Но, как мне кажется, культуру сейчас, наоборот, нужно из цифрового пространства обратно в ламповую реальность выводить, разве нет?
– Дело в том, что это не новая история, и пандемия её только усугубила. Я помню, в начале 2000-х годов, когда еще Герман Оскарович Греф был министром экономики, мы эту тему с ним обсуждали. А он всегда был человеком, который очень много внимания уделяет высоким технологиям. И он говорил, что для такой страны, как Россия (и я тут с ним согласен), культура онлайн – это выход из положения. Человек, живущий на Дальнем Востоке, может посетить театр или музей в Москве. Мы прекрасно понимаем, что сегодня все ушедшее в онлайн – образование, медицина, культура, воспитание, любовь и, если угодно, секс – да что хотите, включая смерть в онлайне (разговор был до гибели Ирины Славиной. – Ред.) – это удел небогатых людей. И это вносит невероятную социальную несправедливость. Богатые по-прежнему ходят к живым врачам, они хотят живых педагогов, живую музыку и так далее. Мы сегодня можем слушать самых лучших исполнителей – Горовица, Гилельса, Ойстраха, Кисина – в записи. Но люди все равно идут в свои филармонии в Иркутске, в Красноярске, в Хьюстоне, в Лионе и слушают менее именитых исполнителей, но живьем. Потому что мы люди, а люди... (тут Михаил Ефимович выразительно поводит носом, втягивая воздух) ведь вообще относятся друг к другу буквально по запаху. И сама любовь начинается с запаха. Мы, как, извините, собаки, принюхиваемся друг к другу, и, если нам запах другого человека не нравится, мы уходим. Это везде так – и в политике, и в быту. И искусство рождается вот из этого, из чувственного. Однажды Пикассо спросили: маэстро, чем вы пишете, сердцем или умом? Он тут же ответил: «Яйцами!» Так что все разговоры об искусственном интеллекте, который пишет музыку, как Бетховен, – это все иллюзия. Может быть, он и пишет музыку, похожую на Бетховена, – но он её пишет «без яиц». И это все меняет. Так вот, с точки зрения социальной онлайн-доступ – благо. Во многих сферах, даже в образовании. А вот в воспитании – уже нет. Потому что здесь нужно общение с живым человеком. И здесь очень важен баланс между онлайном и живым искусством. С одной стороны, онлайн для жителя Камчатки или Чукотки – это благо. Но с другой – это всё может привести к очень серьезному социальному расслоению. Это опасно.
Полную версию интервью читайте на сайте «Собеседника».
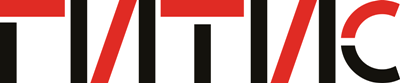
 En
En